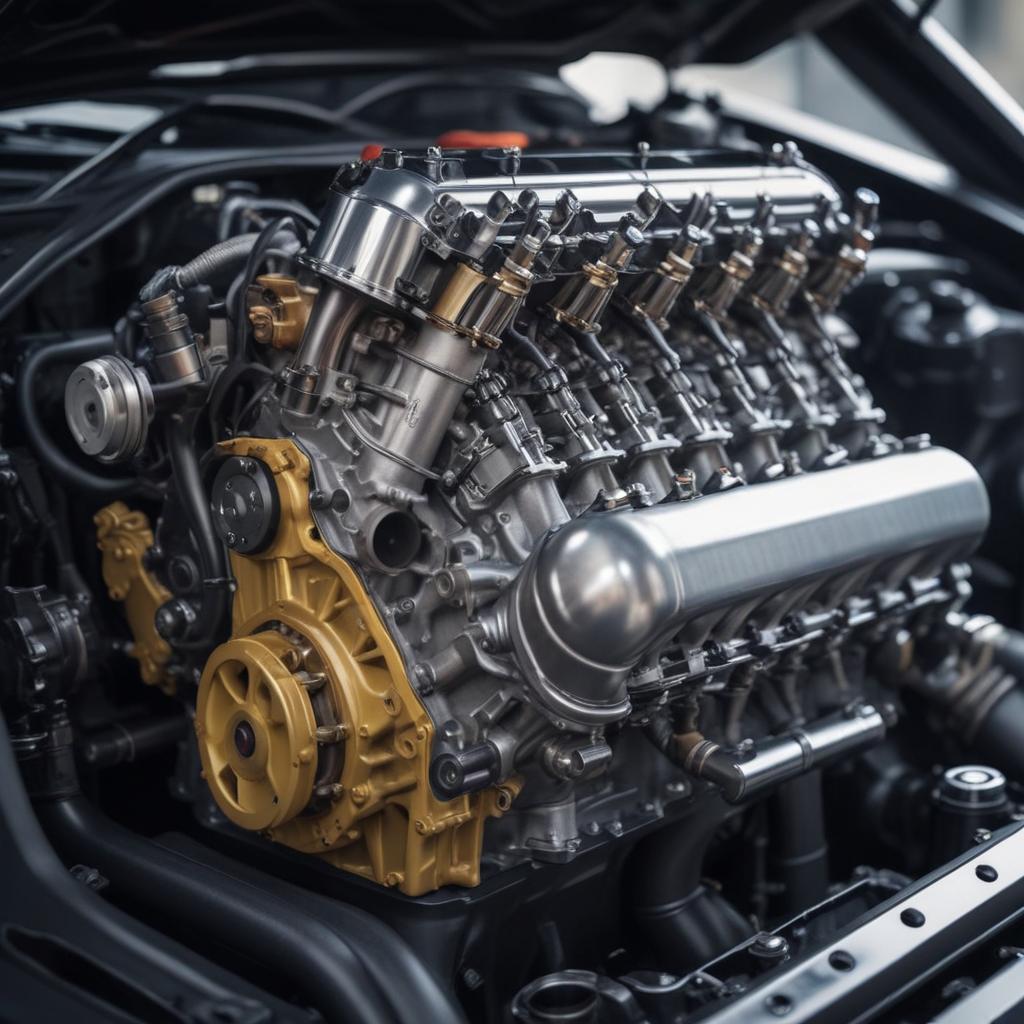Есть такая категория людей, о которых говорят «родился с бензином в крови». Кто-то из них становится гонщиком, кто-то – конструктором или дизайнером, кто-то открывает связанный с автомобилями бизнес, а кто-то предается страсти коллекционера и начинает собирать редкие автомобили. Они очень разные, и живут они очень по-разному, но их объединяет одно – вся их жизнь, как планета вокруг светила, вращается вокруг Его Величества Автомобиля. К этой когорте относился и Михаил Юрьевич Красинец.
Собиратель Москвичей
Московский школьник Миша Красинец «заболел» машинами еще в детстве, так что все последующие этапы его жизненного пути могут показаться предопределенными: автодорожный техникум по специальности «ремонт и эксплуатация автомобилей», армия – естественно, за рулем военного грузовика, ну а затем – работа на АЗЛК. И чуть позже Михаила поразил вирус коллекционирования. Кто-то собирает марки, кто-то – открытки, кто-то – кукол ручной работы, а он начал коллекционировать… Москвичи. В начале 90-х старые автомобили советского производства стоили буквально копейки, и вскоре автомобили в разном техническом состоянии заполнили двор дома, где жил коллекционер. Естественно, это вызвало неудовольствие соседей. Автомобили даже поджигали, местные пацаны били стекла и отковыривали шильдики, а городские власти требовали вывезти хлам на свалку… И в итоге Красинец принял радикальное решение: в 1996 году они с женой Мариной продали квартиру и вместе с тремя десятками машин перебрались в глухую деревушку Черноусово в Тульской области. Там Михаил продолжил скупать старые машины. Так возник, пожалуй, самый странный автомобильный музей на планете.

Шли годы, количество экспонатов продолжало расти и к началу текущего десятилетия перевалило за три с половиной сотни. Помимо Москвичей, собрание пополнилось линейкой продукции Горьковского, Запорожского и Волжского автозаводов, ну и целым рядом импортных образцов. Наконец, коллекция получила официальный статус филиала Чернского государственного краеведческого музея (правда, в 2018 году она его утратила, когда в музее сменилось руководство). За эти годы о музее Михаила Красинца написали практически все автомобильные, да и не только, издания. И далеко не все из них были благожелательными. В очень многих публикациях слова «музей» и «коллекция» использовались исключительно в кавычках, зато безо всяких кавычек писалось про автомобильное кладбище. И определенные основания для этого были.
Дело в том, что любой музей требует огромных усилий и ресурсов, а уж автомобильный музей сосет деньги и труд, как промышленный пылесос. Ну а в Черноусово автомобили до сих пор стоят под открытым небом, хотя еще в 2021 году были планы по строительству навесов хотя бы для самых ценных экспонатов.

Реставрация до выставочного состояния? На это у Михаила сил никогда не хватало. В лучшем случае речь шла о подкраске отдельных автомобилей. Опять же, такая коллекция нуждается в охране – а с этим здесь всегда были проблемы. Приехать в Черноусово в качестве посетителей и оторвать от капота какой-нибудь Волги знаменитый маскот в виде мчащегося оленя – это было в порядке вещей, равно как и забраться в машину и скрутить дефицитную запчасть.
Доставалось и самому Михаилу, особенно в соцсетях. Судя по отзывам, личностью он был яркой и неоднозначной. В общем, для одних он был «Михаил Юрьевич» или «дядя Миша», энтузиаст и собиратель уникальной коллекции, а для других – «Мишка-чекушка», «автомобильный Плюшкин», барахольщик, который собрал не музей, а кучу умирающего автохлама.

Ну а в августе 2021 года случилось непоправимое – Михаил Красинец заболел ковидом и скончался. Это печальное событие только усугубило ситуацию. Что только ни пишут в сети… Что коллекция окончательно погибла, что ее нынешняя владелица, вдова Михаила Марина Алексеевна, распродала все что можно и уехала в Москву, а если это и не произошло, то случится буквально в ближайшее время. Ну а поскольку я неоднократно собирался добраться до Черноусово и все оценить своими глазами, да так и не собрался, я понял, что дольше тянуть нельзя. Итак, еду в Тульскую область!
Дорога в Черноусово
В путь я отправился на тестовом Soueast S07. Это оказался вполне подходящийдля относительно дальних поездок автомобиль – удобный, комфортабельный, в меру быстрый и динамичный. Правда, среди загруженных приложений не оказалось ни одного, обеспечивающего интеграцию медиаустройства с телефоном на Андроиде, есть только Apple CarPlay. Ну да ладно, мы не гордые, повесим телефон на держатель. На скоростных трассах можно было включить адаптивный круиз-контроль, убрать ноги с педалей и следить только за траекторией. Я бы, пожалуй, сделал руль чуть более тяжелым, но и так нормально.
Единственная засада ждала только на мосту через Оку около Серпухова – одна доступная полоса, реверсивное движение. Затем скоростная магистраль закончилась, и началась двухполосная трасса, пребывающая в состоянии активного ремонта и реконструкции на протяжении десятков километров. В конечном итоге навигатор привел меня в поселок Чернь, а из него – на раздолбанную бетонку, которая без предупреждения перешла в грунтовую дорогу. И вот тут я в полной мере оценил плавность хода и комфортабельность подвески этого среднеразмерного кроссовера.
Навигатор довел меня до деревеньки Уготь, откуда линия маршрута тянулась дальше. Но вид глубоких раскисших колей, уходящих вниз, в пойму не то речки, не то ручья, меня немного озадачил. Пришлось прибегнуть к методу опроса местного населения и получить категоричное заключение: «Не, на этой штуке не проедешь. Это тебе надо через Кожинку попытаться, хотя и там дорога так себе». Пришлось вернуться в Чернь, выставить на навигаторе Кожинку и уже там вновь задать точкой назначения Черноусово.

Местные мужики не соврали: действительно, четыре километра по грунтовке были так себе. Пришлось выбрать режим «Грязь», перейти в режим ручного переключения передач и в нескольких топких местах активно пошвыряться этой самой грязью из-под колес. Четыре километра через поля и перелески, крутой поворот – и передо мной пара обычных деревенских домиков, а напротив – поле, заставленное старыми автомобилями. Ну а чтобы ни у кого не возникло сомнений, на вбитых в землю кольях закреплены два информационных стенда. На одном значится «Автомузей в Черноусово», другой извещает, что музей открыт и работает с 10:00 до 18:00.

Сокрытое в траве
Ну что же, пора посмотреть, что там у нас стоит на поле. Часть проходов между рядами экспонатов оказалась прокошена, а сами автомобили расставлены по некоей системе и в определенном порядке.
Вот застыла в уголке группа «тружеников села» – ГАЗовские среднетоннажные грузовики, ГАЗ-51 и не то ГАЗ-52, не то ГАЗ-53. Чисто внешне различить их очень сложно и для уверенной идентификации нужно заглянуть под капот и проверить, что там за мотор – рядная «шестерка» или V8 . Между ними притаился двухтонный «проходимец» ГАЗ-66. Неподалеку – парочка несостоявшихся «Тружеников», внедорожников ГАЗ-69А. Несостоявшихся, потому что официально название «Труженик» автомобилю так и не присвоили, хотя команда Вассермана (не бородатого эрудита из Одессы, а ведущего конструктора ГАЗа Григория Моисеевича Вассермана) весьма настаивала именно на этом имени. И ведь не зря: ГАЗ-69 действительно оказался настоящим тружеником и оставался на конвейере сначала Горьковского, а затем Ульяновского автозавода с 1952 по 1973 год. За это время было выпущено более 600 000 машин.


Неподалеку от ржавых четырехсотых Москвичей закопалась в траву странная каракатица, которую я с трудом идентифицировал как Opel Super 6. Сначала я никак не мог понять, по какой логике Михаил поместил эту руину именно сюда. Но потом решил, что определенная логика в этом все же есть: Москвич 400 представлял собой версию Opel Kadett K38 1937 года, и Super 6 выпускался в то же время.

От 400-го до «Юрия Долгорукова»
Естественно, основу коллекции составляют многочисленные Москвичи. Вот выстроились модели 402, 407 и «переходный» 403 с гидроприводом сцепления, передней подвеской, элементами рулевого и тормозов от перспективного на тот момент Москвича-408. Это были, пожалуй, самые успешные на внешних рынках отечественные автомобили: в некоторые годы на экспорт шла почти половина выпущенных машин. Причем не только в страны соцлагеря и третьего мира, но и и в Швецию, Финляндию, Бельгию, Австрию, Францию.




Вот выпускавшиеся относительно небольшими тиражами универсалы Москвич-423 и длинная шеренга Москвичей 408, 412 и их ижевских близнецов. Есть и универсалы на их базе с индексами 426 и 427. Кстати, у хозяйственных мужиков они считались практичней, чем ВАЗ-2102, по причине более вертикальной задней двери, в стекло которой не упирался загруженный холодильник. Между прочим, 427-е универсалы прошли всю трассу ралли-марафона «Лондон – Мехико» в 1970 году. Естественно, они ехали не в спортивном зачете, а в качестве машин поддержки и техничек, но нагрузка на них была просто запредельной: полная масса забитых инструментом и запчастями машин превышала 2,5 тонны. Есть и трехдверные фургоны Москвич-433 и 434, а как логическое завершение истории – Москвич-2141 в изначальной версии и в варианте «Юрий Долгорукий».
Не Москвичами едиными
Стоят на поле и автомобили других советских марок. Например, стайка Запорожцев, самый ранний из которых – «горбатый» ЗАЗ-965. Вот застыли «ушастый» ЗАЗ-968 и «безухий» ЗАЗ-968М.



Запорожцы – от «горбатых» 965 до 968М
Ну и куда же деться от Жигулей? Естественно, на поле выставлена вся историческая линейка советского периода, от «копейки» до «девятки». Стоит в некотором количестве и продукция Горьковского автозавода. Но наиболее интересные экземпляры, и не только родом из Нижнего, расставлены неподалеку, в обширном дворе хозяйского дома.

Актеры и роли
Начнем с вполне классического американского автомобиля Buick Eight, припаркованного прямо под окнами. Buick этой серии были весьма популярны у американского среднего класса: их покупали те, кто не не мог позволить себе Cadillac, но все же хотел что-то посолидней, чем Ford или Chevrolet: под капотом этих машин был рядный 8-цилиндровый двигатель объемом 5,2 литра и мощностью 141 л.с. В наше время Buick Eight пользуется популярностью у кинематографистов, прежде всего из-за характерной решетки радиатора в стиле ар-деко. Вот и Михаил Красинец решил загримировать автомобиль под полицейский. Изначально автомобиль не имел ни проблесковых огней на крыше, ни сирены на крыле, и это отлично видно по съемкам коллег десятилетней давности. А вот лакокрасочное покрытие было тогда в куда лучшем состоянии, да и центральная часть эмблемы в виде щита с диагональной полосой в шахматную клетку была еще на месте.
Ну а теперь – во двор. Начинать осмотр стоит с «Иван-виллиса». Этот внедорожник был разработан в 1943 году на базе ГАЗ-64 командой под руководством Виталия Андреевича Грачёва. Главной задачей было расширить колею, чтобы использовать стандартные ГАЗовские мосты – это было нужно и для удешевления, и для повышения устойчивости. В итоге все получилось, и ГАЗ-67Б выпускался до 1953 года.

ГАЗ-М20 Победа… Даже не стоит обсуждать, насколько этапной была эта модель для советского автопрома, и про историю «Победы» написано столько, что читать – не перечитать. Вот они, Победы – и первых серий, с «двухэтажной» облицовкой радиатора и узкими поперечными ламелями, и третьей серии, с массивными хромированными балками в облицовке. Но главная изюминка, конечно, это Победа в милицейской ливрее. Мы когда-то рассказывали о службе М20 в органах внутренних дел, да и сложно представить себе детектив из послевоенной жизни, в котором не фигурировал бы такой автомобиль. В том числе – и детективный фильм.



ГАЗ-М20 Победа
А вот настоящий киногерой – мотоколяска СМЗ С-3А, в обиходе «жабка» или просто «инвалидка». Ну а после комедии Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика» этот микроавтомобильчик получил еще и прозвище «моргуновка». Об истории советских специальных автомобилей для инвалидов мы вам уже рассказывали.
Рядом – пришедшая на смену «моргуновке» в 1970 году мотоколяска С-3Д. Ей значимых ролей в кино уже не досталось, зато она послужила основой и донором агрегатов для конструкций многих советских автосамодельщиков.

СМЗ С-3А и С-3Д


Кстати, о самоделках. Постройка самодельных автомобилей была достаточно распространенным делом в СССР – слишком многих не устраивало отсутствие выбора на рынке, и прежде всего – разнообразие типов кузовов. Естественно, самодельщики использовали агрегаты существующих автомобилей, но вот с кузовами действовали кто во что горазд. Были конструкции с кузовам, изготовленными из панелей от газовых плит и даже из противней для духовки, но чаще всего основным материалом становился стеклопластик. Вот такой стеклопластиковый автомобиль Волна-407Ф на базе 407-го Москвича, но с двигателем от 24-й Волги, есть и в коллекции Красинца. Он наглядно доказывает достоинства стеклопластика: в отличие от других экспонатов, радикально пораженных коррозией, голубая Волна выглядит, как новенькая.

Под городом Горьким, где ясные зорьки
Вернемся к разговору о продукции Горьковского автозавода. Коллекция советских олдтаймеров не могла обойтись без 21-й Волги. Отдельной стайкой в дворе собраны Волги всех трех серий: и первой, «со звездой», и второй, с облицовкой «акулья пасть», и третьей, с решеткой «китовый ус». Увы, машины первых серий остались без маскотов в виде оленя. Отдельно стоят дефицитные универсалы ГАЗ-22 второй и третьей серий. Неподалеку – Волги следующих поколений, от ГАЗ-24 до ГАЗ-31029.
А еще в коллекции есть 21-я Волга третьей серии с декалями ралли «Монте-Карло» 1964 года, со всеми атрибутами, положенными раллийному автомобилю тех лет: фарой-искателем на крыше и дополнительными фарами на бампере. Именно на такой машине со стартовым номером 31 выступал в 1964 году экипаж Сергея Тенишева и Анатолия Дмитриевского. Честно говоря, не знаю, действительно ли это тот самый автомобиль или изготовленная Михаилом стилизация – спросить-то уже некого. Но одно могу утверждать со стопроцентной уверенностью: даже если это стилизация, она больше соответствует оригиналу, чем модель из французской коллекционной серии Rallye Monte-Carlo – Les voitures mythiques. Модель изображает Волгу второй серии, с «акульей пастью», в то время как советские гонщики выступали на третьей.

ЗИМ, он же ГАЗ-12 – еще один этапный автомобиль и для нижегородцев, и для советского автопрома в целом. Ни до, ни после в СССР не производилось моделей представительского класса, которые, возможно, и не предназначались для широкой свободной продажи, но все же продавались частным лицам. Не всем, конечно, но академики, народные артисты, известные писатели и другие представители советской элиты вполне могли позволить себе приобрести такую машину. Выпускавшийся в те же годы ЗИС-110 поступал только в гаражи правительственных структур, а вот ЗИМы работали и в такси, и в качестве машин скорой помощи. Одна из таких «скорых» есть и в коллекции Красинца. От стандартных автомобилей ее отличают фара с красным крестом на крыше и прожектор-искатель на левом крыле: в те времена вероятность, что бригаде придется искать адрес в неосвещенном переулке или маневрировать в темном дворе, была весьма высокой. Кроме того, медицинская версия ЗИМа отличается внешними петлями крышки багажника, которые позволяли поднять ее на большую высоту и облегчали загрузку пациента на носилках.

Наконец, Чайки ГАЗ-13 и ГАЗ-14. Про множество мифов, связанных с этими автомобилями, мы тоже рассказывали. На фотографиях прошлых лет Чайки выглядят еще так, как положено сверкающим многослойным лаковым покрытием правительственным лимузинам. Увы, хотя, по словам Марины Алексеевны, вдовы хозяина, этот автомобиль – ее однозначный любимец, ныне он пребывает в печальном состоянии, и помочь ему нынешняя хранительница коллекции ничем не может.

Прототипы и раритеты
Жемчужинами любой коллекции являются уникальные или крайне редкие экспонаты. В коллекции Красинца есть и такие. Во-первых, это один из прототипов компактного внедорожника Москвич-415. В 1957-1960 годах разработкой этого автомобиля вполне традиционной конструкции занималась бригада под руководством Игоря Александровича Гладилина. Автомобиль предназначался для тружеников села, но обязательно должен был получить одобрение у военных. Вот его он и не получил. К сожалению, Москвич-415 из коллекции Михаила – это даже не прототип, а его останки.

Еще один интереснейший экспонат – это прототип МЗМА 3-5-5. Дело в том, что в 1967 году на МЗМА было начато проектирование автомобилей, которые должны были сменить на конвейере Москвич 412. Предполагалось, что это произойдет в 1973-1975 годах, поэтому серия прототипов получила общее обозначение «3-5». Но в конечном итоге дизайнер Игорь Андреевич Зайцев не смог сработаться с главным конструктором завода Александром Федоровичем Андроновым, который хотел видеть на выходе улучшенный Москвич 408. Закончилось все запуском в серию модели 2140, которая, по сути, представляла собой рестайлинг Москвича 412.
Нельзя не упомянуть уникальный пикап-эвакуатор «Боливар», изготовленный в единственном экземпляре для гоночной команды АЗЛК. Базой для него послужил все тот же Москвич 2140.

Меня несколько удивило, что по соседству с Москвичами разместились автомобили линейки Ford Taunus, в том числе модель 15M поколения P1. Но в логике подбора экспонатов Михаилу не откажешь, и, как я понял, эти машины по прозвищу Weltkugel («Земной шар», «Глобус») закупались для сравнительных испытаний. За что они получили такое прозвище? А вот за наплыв на капоте, переходящий в круглую эмблему в виде глобуса. Кстати, стилистически «вельткугели» очень сходны с Москвичами поколений 402-407, да и оснащались они моторами сходного объема и мощности, но имели только две двери.



Ford Taunus P2
Музей или кладбище?
Про музей в Черноусово пишут разное. Одни действительно считают это собрание музеем, другие – кладбищем обреченных на гниение автомобилей. Общее состояние коллекции действительно производит угнетающее впечатление. Да и что может сделать Марина Алексеевна Красинец, единственный на сегодня владелец и хранитель собранных машин, одинокая пенсионерка, у которой из помощников – три кота и беспородная псина? Даже скосить траву вокруг машин – это огромный труд для пожилой женщины. Между тем для приведения в порядок хотя бы тех машин, которые еще можно спасти, нужны рабочие руки и огромные затраты труда. Нужна мастерская с подъемником и окрасочная камера. Нужны деньги, в конце концов, но ничего этого нет. И все же, и все же… У меня при посещении не возникло ощущения кладбища, скорее, поле на окраине деревни Черноусово напомнило мне хоспис – медицинское учреждение, где безнадежно больные люди уходят из жизни в покое. Ведь Михаил Красинец все-таки спас их от пресса и переплавки, не так ли?